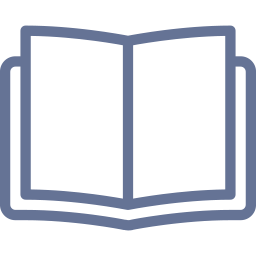15 Квітня 2014
2141
-Тоня! Тоня, вставай! - мамин голос из прихожей, она пришла с ночной смены - Вставай, школу проспишь! Опять вчера с Митькой на крыше звезды смотрели? Вот ведь папина дочка, достанется твоему папочке на орехи, - и уже на щеке горячее дыхание - Вставай доченька, вставай, милая....

-Тоня! Тоня, вставай! - мамин голос из прихожей, она пришла с ночной смены - Вставай, школу проспишь! Опять вчера с Митькой на крыше звезды смотрели? Вот ведь папина дочка, достанется твоему папочке на орехи, - и уже на щеке горячее дыхание - Вставай доченька, вставай, милая....
Антонина Михайловна открыла влажные от слез глаза. Каждый раз, когда снится мама, она плачет. Сначала во сне, потом глядя на потрескавшийся потолок.
"Вот и жизнь моя вся в трещинах и ухабах, только вот под занавес, как-то выровнялась, а так, как вспомнишь...."
В школу мама будила еще до войны. А с Митькой, сыном соседей по лестничной клетке, они крепко дружили. Скромный был. За руку и то стеснялся взять. Антонина улыбнулась этим воспоминаниям. У его отца телескоп был, вот они поздно вечером, когда Тонина мама уходила на работу, лазили на крышу и смотрели на звезды. Красотища такая, что прям дух захватывало! Показывая звезды, куда лучше посмотреть Митя и обнял ее, как бы случайно.
"А я то, дуреха, руку его скинула, и гневно так на него посмотрела, сказала, больше так не делать, эх-хе-хе, Митенька, Митенька, ушел в первый призыв и не вернулся, ни разу и не поцеловались, даже в щечку..."
Отец тоже сразу ушел и ни весточки. Мама в больнице работала, когда немцы ближе подошли, больных и медперсонал эвакуировали, а она и еще несколько человек остались с теми, кого нельзя было перевозить. Тоня помогала ей ухаживать за тяжелобольными. Тогда она впервые увидела Смерти так близко, что ближе казалось уже и некуда.
Было ее ночное дежурство, мама спала в соседней палате. Тоня сидела у кровати пожилого мужчины. На прикроватной тумбочке горела тусклая лампа с зеленным абажуром. Она выхватывала из темноты сильно похудевшее лицо, обтянутое буро-желтой кожей и костлявую грудь, стянутую кровавыми бинтами.
Неожиданно он схватил ее, пальцы железными прутьями впились в хрупкое, девичье плечико. Она испугалась, а он чуть приподнялся и прохрипел: "Дочка, доченька, ты, ты не забудь, ты передай..." Сухие губы смочила почти черная кровь, стекавшая из уголка рта на острый подбородок. "Я же, я все, что мог... все, что мог... и..."
Обмяк, упал на подушку, рука отцепилась, сползла на кровать. Его глаза остались открытыми и смотрели прямо на неё. Жутко, страшно, но и отвести взгляд не было сил. Почувствовала, что сидеть мокро, и под стулом лужица, от страха не сдержалась, стыдно было жуть как.
Потом Тоня спокойнее встречала Смерть. Не привыкла, нет. К этому нельзя привыкнуть. Просто не было уже того страха, ну разве, что кроме случая в комнате с младенцем, во время первой блокадной зимы 1941-42 годов.
"Ох, что-то я расслабилась сегодня, на самом деле вставать надо. Сегодня пятница. Надо в Дом престарелых заехать. Напротив школа-интернат, будет время то можно и туда заглянуть..."
Вот уж 14 лет, как Антонина не говорит "зайти". В инвалидном кресле только заедешь. Ноги потеряла в мирное время. Ну, кто б мог подумать? Блокаду пережила, вышла замуж, родила, вырастила сына, ни одного серьезного заболевания, аппендицит не считается. Прошла огонь, голод, обморожение, да и медные трубы. А ноги потеряла на ровном месте. Неудачно споткнулась, или поскользнулась?
Привычным, натренированным движением перебросила свое тело в инвалидное кресло, которое два года назад подарил внук. Одно удовольствие, а не кресло! На электричестве. Ночь заряжается, весь день катаешься.
На кухне поставила кофе вариться и позвонила внуку.
- Мишенька? Не отвлекаю? Хорошо. Помниться ты говорил, что сможешь сегодня меня на Ленинградское шоссе 81 подвезти. Получится? Да? Хорошо, как тебе удобно, ну давай после обеда, в три, я там часа на два, не больше. И забрать меня сможешь? Ой, как хорошо. Спасибо тебе, Мишуня. Ни куда я не денусь, не сбегу, - смеется Антонина - дома буду. Позвони, как подъедешь.
Налила кофе в чашку, единственную сохранившуюся из семейного чайного сервиза, который еще дед покупал. Поначалу берегла ее, на полочке отдельной держала, только пыль с нее смывала. Но как-то подумалось, что такие вещи должны "работать", тогда они "живыми" становятся. Если стоят, как экспонаты в музее, то умирают. Так и стала из нее по утрам кофе пить. Греть душу и руки.
Держишь ее в руках и тепло становится не столько от горячего напитка, сколько от воспоминаний, которые просыпаются и вместе с ароматом кофе витают в комнате.
Первая из трех блокадных зим. Самая тяжелая, суровая и холодная. Морозы стояли жуткие. Но, как потом оказалось, это было не самым страшным, и даже не голод. Со временем выстудилась, вымерзла надежда, что когда-нибудь это все закончится. Люди, как тени. Летом отогревались, с наступлением первых заморозков залазили в свои норы. Не всем удавалось сохранить человеческое лицо.
Люди теряли разум. Вот сейчас говорят, что тогда людей не ели. Стыдно правду сказать или страшно? Как же: город революции и вдруг людоедство! Ели, сама видела, строгали, как солонину тонкими пластинками. Нельзя забыть всклокоченные волосы, дикие глаза и покачивающуюся в такт жующим челюстям мерзлую пластинку в зубах...
К тому времени чувство опасности и реальности настолько притупилось, что только чтение сборника стихов Есенина помогало хоть как-то цепляться за этот мир.
"Ты жива еще моя старушка?
Жив и я. Привет тебе привет.
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет".
Этими словами Тоня будила маму в последнюю зимнюю блокаду.
- Мама, ты жива еще? - улыбалась белыми губами - и я жива. Вставай, надо двигаться. Пойдем на Неву. Посмотрим на несказанный свет.
Мама не дожила двух недель до снятия блокады и их эвакуации.
Рядом с домом, где они жили, находится старинная Сампсониевская церковь. Сейчас она действующая, а тогда, перед войной, в ней располагался магазин готового платья. Все колокола сняли в начале 30-х, кроме главного. Именно в него, на исходе первой блокадной зимы, попал снаряд. Раздавшийся колокольный звон, густой, тягучий, казалось, накрыл собой весь Ленинград и заглушил войну. Колокол не упал, а на следующий день в церковь потянулись люди. Немного приходило, мужчины и женщины старшего поколения, те, кто еще помнит, что такое храм Божий, как обращаться к Богу, как себя вести.
С каждым блокадным днем, с ежедневной потерей кого-то из близких, друзей, знакомых угасала вера в то, что ты доживешь до Победы или хотя бы до Большой земли. В Сампсониевской церкви люди находили единение, когда молчаливое, когда в разговоре. Утешали, радовались, плакали и верили, что если уж этот древний колокол, которому больше 200 лет, устоял перед вражеским снарядом, сохранил чистоту и мощь своего голоса, то и мы - люди - выстоим.
Случайно заглянув туда один раз, Тоня пришла еще раз и еще. Потом каждое воскресенье.
Время пряталось в снежных заносах, в опустевших квартирах и домах, оно замерзало в окоченелостях трупов на улице или цеплялось за скрип санок по чистому снегу, на которых увозили своих родных. Тех, кто уже прорвал блокаду и ушел в другой мир, к Богу. Тоня пришла к нему сама, не на санках.
Мама, молча, не одобряла эти хождения, только предостерегала:
- Доченька, ты поосторожнее, люди разные, смотри, как бы после блокады это тебе не аукнулось.
После эвакуации к Тоне приходили серьезные люди в штатском, и военные. Вопросов было много.
"Как часто ходила в церковь? Что туда влекло? Веришь ли в Бога? Читаешь ли Библию? Кто чаще других приходил? Умеешь ли молиться и кто учил? О чем говорили? Была ли вера в непобедимость Красной армии? Знала ли мать?"
Иногда Тоня не выдерживала и теряла сознание. Это спасало ее на какое-то время от утомительных допросов.
В итоге, считай, повезло. Исключили из комсомола и отправили на северный Урал, на поселение, с поражением в правах на 10 лет. В начале 50-х ей накинули еще восемь, просто за компанию по общему списку, но в 58-м, когда уже и второй срок заканчивался, реабилитировали и даже позволили вернуться в родной город.
Звонок в дверь вернул Антонину Михайловну в 2011 год.
На пороге, занимая весь дверной проем, стояла Зинаида Павловна, соседка из 24 квартиры этаже выше. Жила одна, мужа давно похоронила. Дети с внуками разъехались, но не забывали. Звонили, помогали деньгами. Приезжали редко, раз или два в год, но и так хорошо. После рождения третьего ребенка у нее что-то нарушилось с обменом веществ, и она начала набирать вес. Из достаточно стройной матери троих детей сначала превратилась в плюшечку, потом в толстушку. С лишним весом боролась, как могла, а после смерти мужа плюнула и не в чем себе не отказывала.
Как обычно она тяжело дышала, положив пухлые ручки на грудь.
- Ох, Антонина, соседушка, - говорила она с придыханием, отдельными словами - составь, компанию, прогуляться.
- Зина, ну какой прогуляться? Ты спуститься то с этажа не можешь, да и не могу: Мишенька должен заехать. Обещала ему дома быть.
- Уф, Антонина, и не говори, тяжело, но надо двигаться...
- Жрать меньше надо! Зинка...
- Ох, не могу, люблю я покушать, вы ж знаете, слабость моя...
- Не слабость, а грех. Чревоугодие.
- Да не ругайтесь вы, Антонина Михална. Куда с миссией сегодня едите? - решила переключить разговор Зинаида.
- На Ленинградское, в Дом престарелых, да и какая миссия, скажешь тоже. Поговорить, пообщаться, скучно и тоскливо, поди, им там.
- И не говорите. Уф. Вот нам-то с вами считай, повезло, как говорится грех жаловаться. Ох. А каково это при живых то детях и туда? Сами ж растили, душу вкладывали и что получили? Ох, соседушка, какие детки то бывают не благодарные. Уф.
- Ладно, хватит причитать и пыхтеть. Иди лучше домой. Завтра прогуляемся, обещаю.
- Ну, завтра, так завтра. А я все-таки пойду. Аппетит нагуляю, - улыбнулась Зинаида Павловна, поворачиваясь всем корпусом к лестнице.
- Иди, - махнула рукой Антонина, - смотри лестницу не сломай!
Тело Зинаиды Павловны затряслось от смеха.
- Ой, Антонина Михална, ой, не смешите, щас упаду, не поднимите.
Антонина, улыбаясь, закрыла дверь.
После реабилитации вернулась в Ленинград. Тяжело было входить в новую жизнь. Все было чужим. Уезжала девчонкой, вернулась взрослой женщиной, без друзей, знакомых. Из родственников осталась одна тетка, но она побоялась даже встречаться.
С трудом нашла работу. На нее продолжали смотреть как на репрессированную, относились настороженно. Не пасть духом помогали посещения церкви. Антонина верила в Бога без фанатизма. Просто верила.
Время хороший доктор. Постепенно все успокоилось. Меньше плакала от безысходности в подушку, теплилась надежды, что все еще наладится.
Однажды весной 1962 года сидела на лавочке в парке у Сампсониевской церкви. Кормила воробьев, голубей, подставляя весеннему солнцу, уставшее лицо и тихо улыбалась. Радовалась теплу, пронырливым воробьям, которые норовили урвать у голубей хлебные крошки. Это было забавно. Большие, важные голуби и прыткие, мелкие воробушки.
Не заметила, как рядом подсел мужчина, только услышала:
- Николай.
Она вздрогнула и вопросительно посмотрела на него. Коротко стриженый бобрик с сединой, открытый и твердый взгляд. Легкий, серый плащ одетый поверх рубашки, застегнутой на все пуговицы.
- Николай, - повторил он и протянул руку.
Подав свою руку, почувствовала теплое, в меру крепкое рукопожатие.
- Антонина.
Так она познакомилась со своим мужем. Фронтовик, коренной ленинградец, правда, сам он говорил: "петербуржец".
И жизнь вошла в новое русло.
Вскоре родилась дочка Риточка. Семейные заботы захлестнули ее с головой. Она радовалась своему счастью. В большие праздники продолжала ходить в церковь, ставила свечки в благодарность за свое спасение из блокадного Ленинграда, за упокой души родителей и Мити. Николай не одобрял ее эти хождения, но был терпим и не запрещал. Он искренне любил эту рано поседевшую, хрупкую женщину. У нее столько достоинств, что на такой маленький недостаток, как веру в Бога, можно было закрыть глаза.
Летом 1984 у него случился инфаркт. Декабрьской ночью того же года Антонина резко проснулась. Увидела во сне заплаканную маму, которая тихо сказала: "Тонечка. Коля твой уходит, проснись".
Муж лежал рядом и смотрел на нее.
- Тоня, милая, что-то тяжело в груди, возьми меня за руку.
Слезы душили ее. Она обняла его и вскоре почувствовала, как ее Коленька затих. Так и пролежала до утра, обнимая своего любимого.
Антонина вытерла влажные глаза.
Что-то сегодня сплошные воспоминания. Быстрее бы уж Миша приехал, что ли. Она посмотрела на часы. Пятнадцать минут второго. Скоро уже. Надо бы поесть перед поездкой, а то ведь только к вечеру вернется.
Проехала на кухню, разогрела щи из холодильника, отрезала ржаного хлеба. Крошки аккуратно собрала и стряхнула в тарелку. Заварила чай, достала остатки прошлогоднего варенья земляничного. С чаем вернулась в комнату.
Тихо как-то сегодня. Даже на улице не так шумно, как обычно.
"Изменилось чего? Или это у меня, что изменилась?" - подумалось Антонине Михайловне, глядя во двор за окном. Все такое же, как всегда. Машины с утра разъехались: стало просторнее. Дети на площадке. У дома, напротив, на скамеечке те же старушки сидят, что и всегда. Вон, уже около двух часов и Петрович пошел выгуливать свою собачку.
Что же не так?
А не так все пошло, когда она споткнулась.
После того рокового случая Антонина не раз вспоминала слова булгаковского Воланда: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила". Читала роман-мистерию в ручной перепечатке и, как на человека, верующего в Бога, он произвел сильное и противоречивое впечатление.
Мир вокруг изменился, или изменилось отношение к нему? То тут, то там она видела подтверждение слов и даже сцен из романа. Ей казалось, а может, и нет, что видит Бегемота, Азазелло, а значит, где-то рядом должен быть и сам Воланд... Со временем впечатления стерлись ежедневными заботами и хлопотами.
На Пасху весной 1997 года Антонина возвращалась из церкви. Можно было пройти прямо через дорогу с трамвайными путями и парк, или длинным путем по подземному переходу. Но хотелось вернуться домой до прихода Риты с внуком, и она поспешила напрямую.
Первой мыслью, преисполненной ужаса и невероятности, когда она падала на трамвайные пути, была: "Аннушка таки разлила масло!?"
Сама упала за пути, а ноги... Корзинка вылетела из рук. Крашенные в луковой шелухе яйца, подпрыгивая, покатились по булыжникам, бутылка "Кагора" разбилась, окрасив багрянцем мостовую, в бардовых, винных лужицах застряли пасочки.
Антонину окутала тишина, разрезаемая металлическим скрежетом тормозов.
Ноги она поджать не успела.
Колеса медленно наехали на берда. Хруст ломающихся костей смешался с металлическим свистом и взорвал сознание яркой вспышкой.
"Господи! За что?" последняя мысль-крик и ни боли, ни света, ни звука.
Очнулась в больнице. Открыла глаза. Предметы постепенно приобретали резкость, цвет, глубину.
- Ой, мамочка, мамочка очнулась! - Ритин голос рядом, вот она, красавица моя - Миша, подойди к бабушке.
"С внуком пришла, только что-то он за мамкину спину прячется, не маленький уже, а как-то боязливо смотрит. Господи, что ж случилось то со мной? Все, как в кошмарном сне. Упала, потеряла сознание? Вроде все цело, все чувствую, руки, ноги... Чего внучек то боится?"
Антонина приподняла голову, чтобы понять, куда это внук ее любимый испугано смотрит. Поправила белую простынь, которой была укрыта. Грудь, руки вот, живот, ноги... Ног не было. Белый провал. Он начинался на середине бедер и уходил в бесконечность. Там ничего не было!
Глаза наполнились слезами отчаяния и непонимания происходящего. Антонина смотрела то в провал, то на дочь, провал, дочь, внук, провал...
- Мамочка, - Рита быстро обняла ее, прижала к себе, - Мамочка, милая, мы справимся, мы обязательно справимся, - гладила ее по голове и быстро вытирала свои слезы.
- Рита, за что? Я ж из церкви шла, от Бога, за что со мной так?
Она подняла заплаканное лицо, посмотрела на дочь, в глазах застыло непонимание и страх перед будущим, уткнулась ей в грудь и разрыдалась.
Реабилитация проходила тяжело.
Рита переехала к маме. Миша с мужем приезжали по выходным. Антонина не могла никак свыкнуться с новыми условиями жизни. Вернее не хотела их принимать. Её постоянно мучил вопрос: "За что?" Она верила, что пережила блокаду, благодаря своей вере в Бога. Да она не все правила соблюдала. Но она верила! Верила, что и Николая не случайно встретила, и что Риточка родилась на радость ей и мужу. Внук вот такой хороший растет. При каждом удобном случае она заходила в церковь и благодарила. Так за что Бог с ней так поступил!?
Антонина ни на минуту не сомневалась, что это произошло по его вине, или с его согласия. Потому что возвращалась из церкви. Случись это в любой другой день, когда она не ходила в церковь, то посчитала бы роковой случайностью.
В непонимании, за что ее Бог так наказал, она изводила себя и дочь. До тех пор, пока однажды утром как будто тяжелые портьеры упали, пустили в комнату свет и чистый воздух. Она всё поняла и простила.
В кармане завибрировал мобильный телефон.
- Бабуля, ты готова? Я на пути к тебе, минут через 10 буду.
- Ой, Мишенька, - очнулась Антонина, - да, да, я скоро. Дверь открыта, как приедешь, заходи.
Она успела переодеться. Выехала в прихожую. Дверь открылась, на пороге стоял улыбающийся Михаил. Высокий, плотный мужчина, с короткой стрижкой черных волос он был очень похож на своего деда Николая, которого видел только на фотографиях.
- Привет, бабуля! - он наклонился и чмокнул в щеку. - Вижу, готова, молодец! Значит поехали?
Отступил в сторону, давая Антонине выехать на лестничную площадку.
- Ну, а теперь держись, - весело сказал внук.
- Мишка, ты опять за свое! - попыталась возмутиться Антонина, но было поздно.
Михаил подхватил инвалидную коляску вместе с ней и спустился по лестнице со второго этажа во двор. У подъезда стоял высокий, блестяще черный внедорожник.
- Господи, Миша, опять ты на своем танке приехал, - укоризненно сказала Антонина, - не умею я в него залазить.
- И не надо уметь, - сказал он и посадил бабушку на переднее сиденье, а кресло убрал в багажник. - Да, ладно, ба, не сердись, - продолжил Михаил, садясь за руль, - знаю я, что обычная легковушка тебе больше по душе, но я с переговоров, а там важно на какой машине приедешь. Этот "танк" вызывает чувство уверенности, силы и стабильности. Значит с его хозяином можно иметь дело! - улыбаясь, закончил он.
- Ой, ладно, не пойму я ваших условностей, играетесь в машинки, как малые дети. В глаза надо смотреть партнеру твоему и в душу, а не на машину в которой он приехал, и какие, прости Господи, длинноногие девицы его окружают, или бритоголовые обрубки, как элемент его благополучия и достатка, обман все это и мишура. Хватит болтать, - махнула она рукой, - поехали.
- Есть! Мой капитан!
- Говорю ж дите, - улыбнулась Антонина, и легко ткнула внука в плечо.
Какое-то время ехали, молча. По Михаилу было видно: хочет что-то спросить. Антонина терпеливо ждала. Пусть созреет. Наконец не выдержал:
- Бабушка, ты только не обижайся, если что, но давно спросить хочу.
- Ну, так спрашивай, не обижусь, не маленькая чай, обижаться то.
- Да, да. В общем... что с тобой произошло, тогда... ну мама рассказывала про то как ты... ну...
- Под трамвай попала? - закончила за него Антонина.
- Да. Ты потом долго в депрессии была, а в один прекрасный день - опа! И все. Как заново родилась.
Антонина, молча, улыбалась.
- Почему? Что произошло с тобой?
Она повернулась к нему.
- Ты на дорогу смотри, а не на меня. А я тебе отвечу. Никому не говорила, потому как никто и не спрашивал. Видимо, как и ты боялись больно мне сделать. Так?
Михаил кивнул.
- Мне не больно уже, давно, вот с того утра и не больно.
Посидела, молча, глядя перед собой, на полоску дороги, убегающую под машину, на небо в легких облаках.
- Поняла я, Мишенька, что Бог не виноват в том, что споткнулась и лишилась ног. Поняла, что было это его послание ко мне. Не правильно я мучила себя вопросом: "За что?" Тогда утром спросила себя: "Зачем? Что хотел он мне этим сказать?". И поняла. Чтобы верить в него необязательно ходить в церковь. Его там нет.
Михаил аж скорость сбросил.
- Странно это слышать от тебя, бабуля.
- Вот и слушай дальше. Нет его ни в церквях, ни в храмах, соборах, мечетях, синагогах. Все это построено не для него. Ему этого не надо. Бог вот здесь, - она коснулась своей груди, - и вот здесь, - коснулась широкой груди внука, - у каждого свой и единый для всех. В каждом из нас есть его искра, надо уметь ее найти в закоулках своей души и зажечь в сердце. А когда зажжешь, не дать угаснуть. Тогда и сам светиться будешь, и людям с тобой легче будет, и тебе с ними. И будешь относиться к ним так, как хочешь, чтоб относились к тебе. Потому что ты знаешь, что у них в груди то же есть Бог. У каждого свой и единый для всех. Только не все в это верят. Вот видишь, мне надо было ноги отрезать, чтоб я это поняла и поверила.
- Так выходит, что все эти наши попы обвешанные золотыми цепями и крестами, э, как это сказать, - замялся Михаил.
- Мишура, как у вас машинки. Для них это такой же бизнес, как для тебя твой. Так не всегда было. Были времена, когда те, кто зажег у себя искру божью, делился этим знанием и помогал зажечь ее другим. Но потом алчность возобладала и на религии стали делать деньги, и Бог ушел оттуда. А я хоть и без ног, Мишенька, но счастлива. - Антонина широко, открыто улыбалась, - и дай Бог, ты найдешь свою искру и пронесешь ее через всю свою чудесную жизнь. И видится мне, что произойдет это очень скоро.
- Мне тоже ноги отрежет!? - улыбаясь, воскликнул Михаил.
- Нет, конечно, дурной ты. У каждого свой путь. Это был мой путь. У тебя свой. Ты по нему уже идешь, только еще не понял этого.
- Хм, странно. Говоришь, Бог у каждого свой и единый для всех?
- Да, Миша, верь мне, - она положила свою маленькую, высохшую от времени кисть ему на правую руку, он накрыл ее своей левой ладонью, и она почувствовала то же тепло, что при первой встрече с Николаем.
Благодарно улыбнулась и сказала:
- У каждого свой и единый для всех.
Александр Купный
17.03.2014